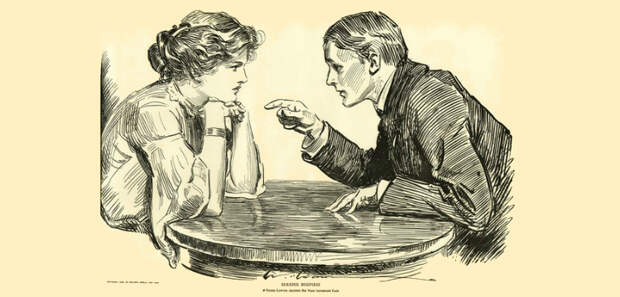
На Руси свободная женщина, выйдя замуж за холопа, не теряла свой социальный статус
В средневековой Европе женщина в таком случае оказалась бы «запятнанной»
Фотография: Работа иллюстратора Чарльза Гибсона (1867–1944), 1905
 MUENNICH — о смысле разводов в современном мире, свободе и мечтах «обуянного гормонами подростка».
MUENNICH — о смысле разводов в современном мире, свободе и мечтах «обуянного гормонами подростка».Едва ли не протяжении всей человеческой истории, по крайней мере последние 3-5 тысячи лет браки для детей заключали их родители. Критериями выбора служило много чего: степень близости и желания породниться в семьях жениха и невесты, материальные расчёты, соображения престижа, интересы политики да мало ли что ещё. При этом желания самих молодожёнов, если и не игнорировались полностью, то допускались в лучшем случае на правах совещательного голоса.
Наперекор реальной жизни, сказочная и романтическая традиция выпестовывала другое представление о браке — как вольном союзе двух свободных сердец, у которого возможна только одна основа — взаимная возвышенная любовь. Не последнюю роль в романтизации брака по любви сыграла, как ни странно, религия, авторитетнейшие представители которой брачные связи соглашались разве что терпеть, как неизбежное зло. Речь идёт о христианстве. Ещё в языческие времена женитьба детей была, в первую очередь, общесемейным, родовым, клановым делом. Не молодожёны создавали новую семью — две семьи роднились между собой. В Евангелии же впервые в качестве первого шага к созданию семьи прозвучало требование — оставить мать свою и отца своего. Жених и невеста теперь образовывали новую индивидуальную суверенную плоть. Кроме этого, христианство как никакая другая религия сумела преодолеть вязкий эротизм плотской любви, щедро разбавив его любовью неземеной, божественной. Отныне любой пылкий влюблённый юноша мог видеть в своей страсти (обоснованно или нет — другой вопрос) отражение любви к Пресвятой Деве, а любая влюблённая девушка уподабливалась монашке, истово любящей Христа. Замково-рыцарская культура с дамами сердца, турнирами и трубадурами довела этот вид любви прямо-таки до сияющего блеска.
Но всё это до поры до времени оставалась в сагах и рыцарских романах — а в скучной повседневной реалии дети шли за того, кого им подыскивали родители (не без исключений, разумеется, но от них ничего принципиально не менялось). Лишь в совсем недавнем прошлом, по всемирно-историческим меркам практически вчера, произошел ряд судьбоносных событий: сначала буржуазные революции покончили с неравенством сословным, потом социальные движения несколько сгладили имущественные различия между людьми; параллельно этим процессам происходил упадок морального авторитета и всевластия классической патриархальной семьи. В итоге стали возможными сцены, которые раньше имели место лишь в сентиментальных романах: не знающие друг друга юноша и девушка знакомятся, встречаются, влюбляются, женятся, ведут хозяйство, растят детей... В Советском Союзе дело усугубилось близким к полному имущественным уравниванием; и хотя определённый «расчёт» имел место и в советских браках, всё же картины наподобие знаменитого «Неравного брака» казались смешными карикатурами из жизни диких первобытных племён.
После гибели советского социализма всё немного опять катнулось было назад, но в общемировой тенденции существенных изменений не произошло. В западной (включая русскую) культуры образцово-показательным признается брак, основанный на высокой любви между двумя людьми. Воля их родителей, начальства, родственников и кого-бы там не было не признаётся даже в качестве совещательного голоса.
Казалось бы, вековая романтическая мечта человечества сбылась. И тут же рухнула. Вернее, превратилась в нечто совершенно странное, не виданное с первобытных, по крайней мере, времён. Процедура бракосочетания, к радости всех счастливых молодожёнов, повсеместно упростилась, но столь же мощно упростилась... процедура развода. Казалось бы, из облегчения чего-либо вовсе не должно было бы следовать, что это самое нужно непременно делать: спрыгнуть с крыши дома очень легко — куда как труднее запрыгнуть с земли на крышу, однако охотников попрыгать как-то не сильно много. Здесь же получилось так, что упрощение формальностей при разводе совпала с лавинообразным ростом числа разводов (возможна, конечно, и обратная причинность — желающих развестись стало так много, что пришлось вносить упрощение, но разбор этой темы занял бы не один толстенный фолиант).
В объёмной немецкой монографии по детской и подростковой психиатрии указывается, что большинство исследователей 50–х и 60–х годов причисляли детей из неполных, разведённых семей к группе риска по девиантному поведению, расстройству школьных навыков, расстройствам личности, наркомании и алкоголизму. Но вот современные сравнения детей из нормальных и разведённых семей особых отличий между ними не находят. Объяснение возможно только одно — в прежние времена разводы практиковались большей частью в асоциальных, криминальных, опустившихся семьях. Теперь же разводятся люди вполне себе финансово и генетически благополучные, отсюда и исчезновение различия в наследственности и социальном статусе «разведённых» и «неразведённых» детей.
Упрощённость процедуры развода выглядит не то что бы нелогичной, но какой-то несвоевременной. От этой простоты куда больше было бы толку столетие-другое назад, когда детей женили без их согласия и когда и в самом деле можно бы нарваться либо на мужа — садиста, либо на жену-шлюху. Но вот как раз тогда убить свою половинку было едва ли не проще, чем развестись с ней. Наиболее гуманным путем, например, в Древней Руси был уход жены или мужа в монастырь, да только попробуй уговори, да найди подходящий монастырь, да к тому же при живом муже или жене, хоть и за монастрырской оградой, запрещалось вторично вступать в брак. Но это всё дела давно минувших дней, преданья старины глубокой, а теперь-то ведь никто никого не неволит, каждый сам волен вдоволь изучить своего предполагаемого партнёра (снисходительное общество даже допускает добрачное сожительство) — почему же вдруг через какое-то время замужества начинаются разговоры о разводе? Невольно задумаешься: а не каприз ли это? Не стоит ли оформление разводов хотя бы немного да затруднить?
Правда, тут же перед глазами встают толпы негодующих активистов с плакатами на тему семейного насилия. Как вам ситуация: муж бьёт жену смертным боем, а она даже не может развестись. Да, проблема есть. Но при чём тут брак или его расторжение? Жертва насилия нуждается не в чистом паспорте, а в полицейской, социальной медицинской и психологической защите. В убежище, в конце концов. А насильник имеет власть над жертвой не потому, что он её муж — ничуть не реже он оказывается сожителем, а то и вовсе случайным знакомым.
Но семейное насилие — явление хотя и распространённое, но не повсеместное. А каковы прочие причины разводов? Их называют великое множество — ********, пьянство, безденежье и так далее до бесконечности, вплоть до анекдотичного «не сошлись характерами». Ах да, бывает ещё феерическое «я полюбил/а другую/гого»: от двадцатилетних это ещё приемлемо услышать, но когда на этом основании разбивают свои семьи 40 — и 50-летние переростки, то это просто стыдно и гнусно. На то и дан человеку разум, чтобы не опускаться до таких вот геронтологических страстей.
Но вот что характерно: все эти факторы — и ещё куча других — действовали и в прежние времена, когда число разводов было малым. Почему же эти факторы не действовали? Неужели только из-за трудностей развода? А сейчас слишком всё легко: поругался, накатал заявление, отнёс куда следует, и через короткое время — вуаля! — ты свободный человек! Чувствуешь себя даже помолодевшим. Ничего, что годы всё-таки прошли, ничего, что у тебя дети (они-то страдают больше всех, но разве взрослых дядек и тётенек это волнует?).
Семейная жизнь — тяжёлый труд, развод — освобождение. Муж недоволен женой: ругается часто (почти всегда по делу), раскоровела (родила ему ребенка), на Анджелину Джолли ну никак не похожа. А там, за пределами постылого семейного очага, его ожидают, подпрыгивая от нетерпения, тысячи Джолли. Ведь он (как почти всякий человек) в глубине души уверен, что он уникален, велик и неповторим и что это рано или поздно кто-то оценит. Жена бросает малозарабатывающего мужа, будучи твёрдо уверенной, что во дворе её дома на креслах-лежалках в ряд сидят миллионеры из фильма «В джазе только девушки». Реальность, ясень пень, оказывается совсем иной. Многие из разведёнок так и маются всю жизнь со своими «прицепами». Но всё же господь милостив, и многим мужчинам и женщинам всё-таки удается вступить во второй брак, а то и в третий и несть им числа... В лучшем случае их новые партнеры оказываются не лучше, чем предыдущие. И для, спрашивается, нужны все эти качели? Зачем страдали дети? Ах, детям лучше с одним из родителей, чем в семье, где вечно ругаются? А вас самих, разведёнки, иезуиты недоделанные, эта отмазка убеждает? И потом, если в любой непростой ситуации вы переходите на крик, то так же само вы будете вести себя со всеми людьми — и любимыми, и нелюбимыми, да и с детьми тоже.
Когда неподготовленный человек читает книги о социологии первобытных народов, он удивляется странному устройству тогдашнего общества: отец не кормит собственного ребёнка — ребёнка кормит его дядя со стороны матери. Что за хрень, зачем чесать левой пяткой правое ухо? А то, как поступают наши с вами современники — не дичь? Муж бросает жену с двумя собственными детьми, женится на другой и начинает кормить её детей, прижитых бознь от кого, который, в свою очередь, питает чьих-то чужих *********. Зачем? К чему? Где логика, где смысл?
Знаменитая руганная-переруганная моногамия осталась лишь в воспоминаниях. Имеет ли человек три жены синхронно, как песенный султан, или последовательно — суть не меняется. У нас сейчас и полигамия, и полиандрия, и первобытный промискуитет. Люди заключают в течение жизни не один, а несколько браков — даже если считать только браки законные! С одной стороны, разве это плохо? Что ни говори, а свободы в последние годы стало больше — по крайней мере, сексуальной. Это ли не мечта любого обуянного гормонами подростка, не бесценный ли дар богов?
Но что потребуют боги за этот дар?
Свобода — это, безусловно, один из идеалов современного западного (в том числе русского) мира. Но не менее ценным является дар, взрощенный, выпестованный не одним поколением мудрецов, философов, борцов и мучеников — дар индивидуальности. Не быть «серой массой», быть личностью, быть индивидуумом — это ли не категорический императив современной цивилизации?
Как индивидуальность, так и анонимность («серомассовость», «быдловость» на языке высококультурной элиты) имеют биологические корни (человек — животное, притом общественное, не забываем об этом!). За подробными разъяснениями следует обращаться к гусиному папе Конраду Лоренцу, а вкратце оно будет примерно так. Анонимная животная стая — это такая стая, в которой каждый из её членов может быть заменен на другого без того, чтобы кто-то обратил на это внимание. В анонимных стаях, таких как стаи селёдок или крыс, животные не знают друг друга лично. А вот в стаях индивидуализированных, как у тех же лоренцовских гусей, животные спаяны связями индивидуальными. И если гусак лишается своей подруги, он тоскует, да так, что даже выражение его глаз становится таким же, как у перенёсшего утрату человека. Ибо эта подруга для него — не одна из множества аналогичных особей, коим нет числа. Она — индивидуум. Она — личность.
А что способствует формированию индивидуальных связей? Простые вещи: совместная жизнь, совместная забота о потомстве, формирование эмоциональных привязанностей семейной пары, а так же потомства с родителями. Словом, всё то, что когда-то считалось само собой разумеющимся для нас, людей, и что буквально на наших глазах рушится в грязь. В круговороте скороспелых браков и молниеносных разводов успевают ли формироваться индивидуальные связи? А какие индивидуальные связи с детьми у воскресного папы, по совместительству чьего-то отчима?
А где нет индивидуальных связей, там нет и индивидуальностей. Так и шагают по земле анонимные отцы и матери и их анонимные дети. Тысячелетия развития чувств, художеств, эстетики, культа высокой любви и верности до гроба — что до всего этого новому первобытному стаду?
А ведь всего-то и надо — малость понимания и ответственности... Да бог с ней ответственностью — быть хотя бы человеком. Как же так: недавно ты обещал любить всю жизнь, а сегодня бежишь прочь?
«Бездушием камню подобен,
Кто с милой готовит разрыв.
Бесчувствен, кто сердце способен
Отнять, раз его подарив»
И разве не прав наш старый друг Хайям: подарить и требовать подаренное обратное — каким нужно быть человеком, чтобы решиться на такое?
Предыдущие поколения оставили нам редкий дар — возможность брака по чистой и светлой любви. Неужели этот дар попал в недостойные руки?
Свежие комментарии